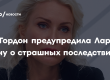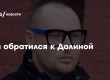Рина Зеленая в образе Черепахи Тортиллы из фильма «Приключения Буратино»
Фото: кадр из фильма
Екатерина Васильевна Зеленая родилась в Ташкенте, а в юном возрасте переехала в Москву: туда перевели ее отца-чиновника. В Москве она и решила стать актрисой, причем в мемуарах описывала этот момент с очаровательной непосредственностью: «просто шла по улице, ни о чем не думала и увидела объявление: «Прием в театральную школу».
На экзаменах она прочитала серьезное драматическое стихотворение Ивана Никитина «Выезд троечника» и произвела на приемную комиссию ошеломительное впечатление: все валялись от хохота. Так что ее немедленно взяли.
О своей сценической карьере она потом говорила: «В Большом театре я не работала, а те маленькие, где играла, уже все исчезли». В годы Гражданской войны она с матерью и сестрой отправилась на Украину — где-то там вроде бы работал отец. В результате очутилась в Одессе, по дороге подхватив тиф, от которого едва оправилась — и там же через пару месяцев начала выступать в экспериментальном полулюбительском театре «КРОТ» (сокращение от «Конфрерия — то есть братство — Рыцарей Острого Театра»). И там же окончательно осознала, что ее призвание — не пьесы Ибсена, а представления, где надо «петь, танцевать, переодеваться каждую минуту, играя по пять ролей в один вечер». Там она и сократила свое имя до «Рина» (потому что «Екатерина» не влезало на афишу). Фамилия же — Зеленая — была настоящей, но на афишах комических представлений выглядела как удачно выбранный псевдоним.
Денег все это не приносило. Впрочем, денег не было и в Москве, куда она переехала в разгар НЭПа — но ей все равно жутко нравилось выступать в кабаре под названием «Нерыдай» (писалось именно так, в одно слово). К тому же там отлично кормили («нам, артистам, полагался ужин. Это было очень уместно и вкусно»). А потом был театр «Балаганчик» в Петрограде. И везде она становилась знаменитостью — правда, только среди тех, кто эти театры регулярно посещал.

Первая роль в кино в фильме «Путевка в жизнь»
Фото: кадр из фильма
Но они и правда пользовались популярностью. Зеленая вспоминала, как на одном представлении зрители из числа молодых нэпманов начали поддевать колкими и оскорбительными замечаниями поэта Сергея Есенина, тот обиделся и полез в драку. Артисты даже особо ничего не заметили. Но на следующий день Есенин пришел к Рине Зеленой в номер гостиницы «Англетер», где она жила, с извинениями: «будто там, в зале, все произошло из-за него. Просит простить. Я его утешала. Он меня поцеловал и был, по-моему, рад, что я не сердилась. Он побыл недолго, и я его не удерживала, но потом болела душа: один раз видела его так близко, могла говорить, слушать. А разговор был ни о чем и ни за чем…»
Более близкое знакомство она свела с Маяковским, и вспоминала в мемуарах, как однажды в Ялте он встретил ее на набережной и позвал в бильярдную играть. Присутствующим он сообщил: «Я играю с Риной. Условия такие: играем американку. Она должна положить два шара, я – тринадцать. Если выигрываю я, все присутствующие ставят мне по бутылке вина. Если Рина – я всем по бутылке». Зеленая «к сожалению, выиграла» — но хмурое настроение Маяковского вдруг резко исправилось.
Потом она писала, что в присутствии Маяковского обычно «старалась произносить что-нибудь «умное» и от этого казалась себе еще глупей», и что спокойствие и храбрость, которым дышали все его выступления на эстраде, «были как бы начинены изнутри тревогой, страхом, неуверенностью, как у дрессировщика в клетке с тиграми».
14 апреля 1930 года они с Борисом Тениным выступали с концертными номерами на утреннике. Кто-то схватил Зеленую за руку перед выходом на сцену и громко шепнул, «почти крикнул»: «Пусть Тенин не поет куплет о Маяковском! Ни в коем случае!» Но Тенин этого не услышал, и спел комический куплет о поэте. Ни он, ни Зеленая не подозревали, что за несколько часов до того Маяковский покончил с собой. «Мы узнали об этом, когда сошли со сцены. Какое горе! Как страшно! И тогда, и сегодня, и во веки веков! Ужас обуял всех. Казалось, надо было бежать, что-то делать, кричать, звать на помощь. Казалось, все начнет рушиться: сейчас будут падать дома и деревья. Но все оставалось на месте. Даже светило солнце».

Кадр из фильма «Подкидыш»
Содержание статьи
«ПОХОЖА НА МАЛЬЧИКА, КОТОРЫЙ ПОХОЖ НА ДЕВОЧКУ»
Зеленая вспоминала: «На Невском проспекте подошел ко мне однажды поэт Н. Олейников. Здороваясь, он сказал, задумчиво глядя на меня: «В вашей наружности есть то, что мы называем внешностью». По правде говоря, тогда я тоже воображала, что у меня есть внешность. Во всяком случае, выходя на сцену, я всегда точно ощущала себя высокой, красивой блондинкой. Вера Инбер в одном из своих рассказов (…) сделала героиню молодой актрисой, внешне схожей со мной, и в двух словах дала описание: «Она была похожа на мальчика, который похож на девочку». Тогда же появилась поэма об актерах эстрады, где упоминалось много имен, среди них и мое. Сноска внизу гласила: «Р. Зеленая – артистка с малыми формами».
Она стала одной из величайших характерных актрис советского, если не мирового кино. При этом почти не играла больших ролей, и в кинематографе оценили ее далеко не сразу. Свою первую роль она исполнила в первом советском звуковом фильме «Путевка в жизнь», спела там песенку — песенка осталась, а лицо актрисы только мелькнуло. И потом все 30-е она почти не снималась. «Что удивительно – все говорили: «Рина! Рина!», а снимали других актрис. Наверное, тогда надо было выйти замуж за какого-нибудь кинорежиссера. Но мне это прямо не приходило в голову. Да и им, наверное, тоже».

Гримерша из фильма «Весна»
Фото: кадр из фильма.
В 1939-м они вместе с Агнией Барто написали сценарий комедии «Подкидыш» — даже не заключая предварительно договор с киностудией (то ли не знали, что так полагается делать, то ли решили не рисковать: вдруг не получится?) Сценарий на «Мосфильме» одобрили, запустили в производство, Зеленая присутствовала на съемках просто как соавтор сценария, на случай, если понадобится поправить или дописать какую-то реплику — и вдруг Барто с режиссером Татьяной Лукашевич заявили, что в фильме требуется еще один комедийный персонаж. Так появилась домработница с бессмертной фразой «Вот тоже пришла старушка, попросила воды напиться. Потом хватились – пианины нету». Каждую свою сцену Зеленая импровизировала на ходу.
Но и «Подкидыш» не сделал ее востребованной актрисой. На протяжении пятнадцати последующих лет ее ценил (настолько, чтобы снимать в своих фильмах) практически один режиссер — Григорий Александров. Вместе с его женой Любовью Орловой Зеленая появилась в «Светлом пути», потом сыграла гримершу с киностудии в «Весне» (эта роль предназначалась для мужчины, и ее уже было выбросили из сценария за ненадобностью — Зеленая буквально выцыганила у Александрова возможность вписать ее обратно, переделав под себя). Еще она снялась у Александрова в почти забытых ныне «Встрече на Эльбе» и «Композиторе Глинке»… И лишь с середины 50-х начала появляться на экране регулярно, каждый год. Сначала в фильмах молодых Леонида Гайдая («Жених с того света», «Операция Ы») и Эльдара Рязанова («Девушка без адреса», «Дайте жалобную книгу»), а потом и у многих других режиссеров.

Модельер из фильма «Девушка без адреса»
Фото: кадр из фильма.
«ЗОВИТЕ МЕНЯ РУИНОЙ ВАСИЛЬЕВНОЙ»
И все равно есть ощущение, что ее не ценили: очевидно, что она могла бы сыграть в кино в десять раз больше. Ей приходилось «добирать» озвучкой мультфильмов (где ей не было равных) и радиопередачами, где она виртуозно имитировала детские голоса (одна учительница из провинции потом написала на радио: «Я включила приемник с опозданием и не слышала имени малыша, который так чудесно читал стихи. Это было необычайно. Я прошу вас немедленно написать, в чьих руках находится воспитание этого талантливого ребенка»).
Одну из самых известных своих ролей — миссис Хадсон в «Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне» — она могла и не сыграть. Все в голос твердили режиссеру Игорю Масленникову, что актриса слишком стара (ей тогда было 78 лет). Одни считали, что она просто «не доживет» до завершения съемок, другие полагали, что она уже выжила из ума и потеряла память. Масленников с трудом ее отстоял, потому что не видел ни одной другой актрисы, которая смогла бы сыграть смешную англичанку (у всех остальных получались смешные русские старушки). И быстро обнаружил, что у Рины Зеленой «цепкая память, тончайшее чувство юмора и здравый смысл, какому могли бы позавидовать молодые».
Масленников вспоминал, как говорил ей:
«— Рина Васильевна, можно я буду звать вас Екатериной Васильевной?
— Уж лучше зовите Руиной Васильевной.
— Рина Васильевна, — обращался я к ней в другой раз, — все говорят, что у вас получается интересная роль. Давайте расширим ее.
— Ни в коем случае! Я еще никогда не играла мебель. Мне это нравится.
В костюмерной и гримерной она появлялась раньше всех. Садясь в кресло перед зеркалом, она каждый раз говорила, глядя на себя: «Единственное, что у меня осталось, — это красота!..»

Эпизод из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
Фото: кадр из фильма.
«Я САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ»
Личная жизнь у нее сложилось счастливо. Правда, первый брак — с юристом Владимиром Блюменфельдом — продлился недолго. Да и большой роман с журналистом, главным редактором «Огонька» Михаилом Кольцовым ни к чему хорошему не привел (удачно было уже то, то когда Кольцова в конце 30-х арестовали, а в 1940-м расстреляли, Зеленой никто не припомнил их отношений, закончившихся за несколько лет до этого). Но вот со вторым мужем, архитектором Константином (Котэ) Топуридзе, создателем фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок» на ВДНХ, Лефортовского и Госпитального мостов в Москве, ее ждали сорок лет совместной жизни.
Те главы мемуаров, где Екатерина Васильевна вспоминает о знакомстве с ним, отчетливо напоминают «Дар» Набокова. «Поразительно, как судьба строит жизненные сценарии. Когда мы уже долго жили вместе с Константином Тихоновичем, выяснилось, что и в Ленинграде, и в Москве все друзья, самые близкие, у нас были общие, а мы с ним ни у кого ни разу не встретились. Видимо, когда один из нас приходил в какой-то дом, другой ушел из него за пять минут до этого. И мой дорогой Е. Шварц был любимым другом К.Т.Т. И Б.М. Эйхенбаум поил меня чаем, а когда я уходила, очевидно, встречал Константина Тихоновича. Так я сужу потому, что мы нигде не столкнулись, даже в дверях. И Ираклий Андроников, и профессора Котэ – и Руднев, и Щуко – все они были нашими общими друзьями. Благодарю тебя, судьба, за то, что мы все-таки встретились хоть потом».

Миссис Хадсон из «Приключений Шерлока Холмса»
Фото: кадр из фильма.
Это «потом» наступило однажды, когда оба отдыхали в Абхазии. Идиллическими их отношения назвать было трудно: Зеленая говорила, что «этот человек сделан по неизвестной мне модели». Характер его она называла ужасным. Вспоминала, как он мог обидеть ее, потом несколько часов не обращать на нее ни малейшего внимания, а потом подойти и сказать «Ну хорошо, я тебя прощаю». Требовал, чтобы она писала ему письма с гастролей каждый день — «читать письмо, может быть, я не буду, но чтобы оно лежало у меня на столе», — а сам не писал ей почти никогда.
Она говорила, что в браке ей пришлось сломать себя, чтобы быть с ним. И все равно на склоне лет вспоминала совместные сорок лет как величайшую радость. «Как человек никогда не может привыкнуть к прекрасному зрелищу, видя перед окном море, или шагая в лесу и глядя на вершины сосен, или в горах восхищаясь очертаниями склонов и облаков над хребтами, так я всю жизнь, каждый день ощущала счастье, что могу слушать его, слышать его, смотреть на него. (…) Во всем свете нельзя было найти человека, который был бы более нужен и важен. Среди дня я могла подойти и принести ему стакан воды. Он пил, даже не удивляясь, почему я догадалась, что он хочет пить. Я знала, что я самый счастливый человек на свете».
Константин Топуридзе скончался от инфаркта в 1977 году. Екатерина Васильевна прожила после этого еще 14 лет, последние годы — в Доме ветеранов кино в Матвеевском. По легенде, 1 апреля 1991 года ей должны были присвоить звание Народной артистки СССР, но в этот день она умерла. Наверняка она оценила бы эту иронию судьбы — гораздо больше, чем не особо ей нужное звание.