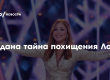Экспедиция 2022 года по следам Арсеньева. Одна из последних фотографий Владимира Николаевича.
Фото: Леонид ЗАХАРОВ. Перейти в Фотобанк КП
Он часто прикидывал, как будем отмечать столетие «Комсомолки». Кого приглашать, какие спецвыпуски делать. 24 мая 2025 года должен был стать прежде всего его праздником. Ведь именно Владимир Сунгоркин не дал погибнуть «КП» в лихие 90-е и вырастил из нее современный медиахолдинг в нулевые.
Три года Сунгоркин не дожил до столетия «Комсомолки» — во время экспедиции по Дальнему Востоку у него остановилось сердце. Ушел как настоящий мужчина, как настоящий путешественник. Ушел на взлете — на пике жизни и карьеры. Многие его любили, восхищаясь умом, хваткой, неутомимостью. Были и те, кто не переваривал по тем же причинам — завидовали. Но уважали все!..
Сегодня мы подводим итоги еще одного года без Шефа. Посмотрите и сами решите, был бы он нами доволен.

— Этот год особенный. «КП» отметила вековой юбилей и получила первую российскую награду — орден Почета «… за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность…».
Теперь на «груди» у «Комсомолки» целых шесть орденов!
— Владимир Путин прислал на 24 мая большое видеопоздравление. А общее число поздравлений «Комсомолки» приблизилось к трем тысячам!
Сотрудники «КП» получили за этот год:
93 Благодарности президента;
10 наград Союза журналистов «Золотое перо»;
9 Почетных грамот Минцифры;
7 государственных и ведомственных медалей;
3 ордена;
3 премии «Медиа-Менеджер России»;
2 Премии Правительства Москвы;
1 Премию Правительства России.

Журналисты «Комсомолки» на церемонии вручения премии «Золотое перо России».
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
— В декабре 2024 года газета «Комсомольская правда» признана Маркой № 1 в России и Любимым брендом россиян по версии Online market intelligent. Кроме того, мы снова на 1-м месте рейтинга СМИ, пишущих о социальной ответственности по версии Медиалогии.
— В 2024 году наш сайт KP.RU в четвертый раз стал победителем престижной Премии Рунета за мультимедийный проект об истории украинского национализма. Этот же проект получил и престижную Премию ИРИ — 2025.
— Ежемесячная посещаемость сайта KP.RU по ЛиРу достигла 82,5 млн посетителей и 203,2 млн просмотров по всему миру, а суммарное число подписчиков в сообществах «КП» в соцсетях превысило 9 млн.
— Газета «Комсомольская правда» вошла в топ 5 самых цитируемых федеральных печатных СМИ и в топ-3 рейтинга цитируемости в социальных сетях.

— Радио «Комсомольская правда» поднялось до второго места в рейтинге самых цитируемых разговорных радиостанций страны.
— В 2025 году наше радио получило награду сервиса RADIOSTATISTICA за программу с наибольшим количеством интернет-слушателей среди всех радиостанций России.
— Рост интернет-аудитории радио составил 100% — с 3,5 млн в мае 2024 года до 7 млн к июню 2025 года.
— Подкасты Радио «КП» — самые популярные среди всех радиостанций России по версии сервиса podcast.ru. В топе регулярно оказываются проекты «Что будет», «Добрый вечер», «Аналитика с именем»,«Военное ревю».

— В зону вещания Радио «Комсомольская правда» в 2025 году вошли: Башкортостан, Запорожская область, Мелитополь, Костромская область, Краснодарский край, Сочи, Смоленская область. На сегодняшний день Радио «КП» вещает боле, чем в 400 городах России. А через Интернет нашу станцию слушают во всём мире.
— В первую десятку рейтинга российских журналистов по количеству упоминаний и охвату публикаций в телеграм-каналах за июнь вошел наш военкор Александр Коц. Он же стал финалистом конкурса «Лидеры России. Политика».

Встреча военкора «Комсомольской правды» Александра Коца с юнармейцами в редакции.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
— «Комсомольская правда» теперь и активно развивающееся книгоиздательство. За год увидели свет 50 книг, из которых многие стали бестселлерами: «Легкость Быт и Я» Аиды Синицыной, «Фишер. По следу зверя» Александра Рогозы, «Всегда рядом» Леонида Рошаля, подарочное издание «Главные символы великой страны».
— Вот-вот выйдут книги «Звезда по имени Ови» Павла Садкова о звезде мирового хоккея Овечкине и кулинарный шедевр «Отчаянный домохозяин» Леонида Захарова.
— Наши книги стали победителями многих престижных литературных премий: «Знание. Премия 2024», премия СВР в области литературы и искусства им. Е. Примакова, отраслевая премия «Ревизор 2025» и других.

— Особенно приятно, что работа Станислава Гольдфарба «Сунгоркин, или Как закалялась «Комсомольская правда» получила диплом Национального конкурса «Книга года — 2024» и признана Союзом журналистов Москвы «Лучшей книгой журналиста — 2024».
— В июне команда Медиагруппы покорила Эльбрус в честь 100-летия «Комсомольской правды».
— Продолжается беби-бум в «КП». В этом году родились уже 14 малышей.
Признаться честно, Владимира Николаевича нам не хватает. Его совета. Его юмора, жизнелюбия, любознательности. А порой и его «волшебного пенделя». До сих пор, что бы мы ни делали, всегда задаем себе вопрос: а как бы поступил он, что бы он сказал?

Его уже нет с нами три года, а мы все еще продолжаем у него учиться. И будем учиться всю жизнь…
ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Владимир Николаевич Сунгоркин родился 16 июня 1954 года в Хабаровске в семье ветерана Великой Отечественной войны, мичмана Краснознаменной Амурской флотилии Николая Филипповича Сунгоркина. Младший среди четверых сыновей.
В 1971 году поступил на отделение журналистики филфака Дальневосточного государственного университета во Владивостоке. Сотрудничать с «Комсомолкой» начал еще в студенчестве и по окончании университета, в 22 года, стал собственным корреспондентом «КП» на БАМе (самый молодой на такой должности в СССР!).
С 1981 по 1985 год работал собкором газеты «Советская Россия» по Приморскому краю. Затем вернулся в родную «Комсомолку» заместителем редактора отдела рабочей молодежи.
В 1998 году стал главным редактором газеты (а потом и генеральным директором) и оставшиеся четверть века своей жизни посвятил созданию и становлению крупнейшего медиахолдинга страны — Издательского дома «Комсомольская правда».
Награжден медалями «За строительство Байкало-Амурской магистрали», «За трудовое отличие», орденом «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Лауреат Премии Ленинского комсомола и Премии Правительства РФ (посмертно).
Его сердце остановилось 14 сентября 2022 года во время экспедиции по Дальнему Востоку — он собирал материалы для книги о писателе и первопроходце Владимире Арсеньеве. Владимиру Николаевичу было 68 лет.
Владимир Сунгоркин: Камень очарования
Чароит — минерал назван по району находки — среднее течение реки Чары… Чароитовая порода — прочная, плотная, вязкая, хорошо полируется. Красивый цвет (от светло-сиреневых до темно-сиреневых в фиолетовых тонов с шелковистым, переливающимся блеском), структурно-текстурные особенности, а также наличие звездчатых включений медово-желтого тинаксита и темно-зеленого эгирита придают камню своеобразие. Тончайшие волокна чароита как бы обтекают округлые зерна, линзы кварца и полевого шпата.

Владимир Николаевич выбирал для путешествий самые труднодоступные места.
Фото: Евгений САЗОНОВ. Перейти в Фотобанк КП
БОЛЬШЕ НИГДЕ НА ПЛАНЕТЕ
Чароит открыли геологи Юрий и Вера Роговы. Кроме единственного месторождения на реке Чаре, этот минерал нигде больше на планете не обнаружен.
В тот год молодого геолога перебросили с Витима на никому не ведомый массив Мурун — в глухой таежный угол на стыке Иркутской и Читинской областей с Якутией. Назначили начальником участка, дали людей, технику, программу работ года на три. Для геологии эта огромная территория все еще оставалась «белым пятном». Правда, в первые послевоенные годы на южной оконечности массива работал геолог В. Г. Дитмар, но его отряду удалось «закрасить» лишь мизерный клочок исполинского «белого пятна».
Рогов прилетел, на Мурун в конце сентября. Мрачную горную гряду и нехоженую тайгу уже припорошил снег. «Вот уж точно — «белое пятно», — поежился Рогов, впервые разглядывая бесконечные снежные марева из вертолета. На всеобщем уныло-белесом фоне выделялись густо-зеленой полосой кедровники вдоль безымянного ручья. Здесь отряд Рогова построил домики для жилья, склад, камералку. На самом берегу ручья срубили из толстых лиственничных бревен баню. Поселок назвали Кедровым.
В ту первую зиму отряд Рогова бил шурфы на ближайшей к Кедровому седловине. Почти каждую ночь мело, и пробитая с трудом за день ямка к утру оказывалась плотно запакованной снегом. Приспособились закрывать на ночь сделанную в снегу и .земле выемку щитами. К концу зимы в шурфы спускались по лестнице-стремянке: сугроб на седловине разросся до семиметровой высоты.
В конце концов настала весна, где-то к июлю только редкие проплешины снега на серых склонах Муруна напоминали о лютой зиме. Появилась возможность уходить во все стороны от Кедрового.
— Вы только попробуйте представить, — вспоминал Рогов, — на многие сотни километров неисследованные пространства. Мы уходили в маршруты, как говорится, не жалея ног. Так хотелось увидеть: что в соседнем распадке? что за следующей грядой? Зуд, что ли, был на открытия. Хотя бродить там не сахар — то болотина, то стланик. Река и то какая-то бешеная.
Мне, пожалуй, удастся представить их маршруты. Мы побывали на Муруне. Чтобы попасть туда, надо сначала прилететь из Читы в Чару. Чара теперь стала шумным многолюдным поселком: в 1983 году здесь лягут рельсы и возникнет крупная бамовская станция. В сотне метров от аэродрома мы спустили на воду видавший виды ПСН-10.
Первые сто с лишним километров пути приходятся на Чарскую котловину. Река тут медлительна, извилиста, к тому же полностью оправдывает свое название («Чара» по-эвенкийски значит «мель»). На выходе реки из долины вы увидите сначала эвенкийское национальное село Чапо-Олого на правом берегу — здесь геологи брали напрокат оленей. Потом мелькнет островок «Утюг» — напротив него на левом берегу знаменитый горячий ключ, там стоят баня и дом, в котором бессменно живет смотритель и хранитель горячего источника Иван Васильевич Шароглазов. За «Утюгом» река втягивается в узкую расселину хребта Кодар и потом почти двести верст бьется в непрерывных порогах и шиверах через горы и тайгу, еще не утратившую своей первобытности.

На одном из дальневосточных сплавов.
В ПОИСКАХ «КАМЕННОЙ СИРЕНИ»
Мы плыли в поисках чароита, руководствуясь маловразумительной в смысле координат научной статьей, допотопной картой и во многом надеясь на интуицию. Преодолели благополучно Сулуматский, Пуричиканский и еще полтора десятка непроизносимых или вовсе безымянных порогов, абсолютно непроходимых для катеров или моторных лодок (в туристском отношении Чара относится к четвертой категории сложности). Река стала девственно безлюдной. Звери выходили на берег, не страшась плывущего по реке сооружения, разглядывали плот недоуменно, но, в общем-то, спокойно. Когда появлялись очередной лось, изюбрь или медведица с медвежатами, все замирали, боясь спугнуть, а кинооператор Леонид Банников включал кинокамеру, после чего заявлял скептически что-то вроде:
— Вот на Камчатке я видел медведей: как лошади. А эта мамаша, однако, мелковата.
В группе у нас все были бывалыми путешественниками, и каждый спешил вспомнить если не порог в какой-нибудь жутчайшей реке, то небывалых по убийственной силе чукотских комаров, но каждый и среди этого традиционного маршрутного трепа признавал, что в Чаре-реке есть нечто совершенно особенное.
После Олюн-Турихтахского порога река ворвалась в долгое, извилистое, тесное ущелье. По обоим берегам тянулся мертвый после давнего пожара лес. Здесь набросился на нас ливень. Молнии распарывали небо, сухой треск и грохот рассыпались над головами. Ощущение было такое, будто с неба вот-вот посыплются камни. Ночевать пришлось на каких-то. осклизлых булыжниках, потому что больше в этом ущелье приткнуться было некуда.
Между устьями речек Большая Тора и Малая Тора полдня потратили на разведку каскада трех порогов, которые оказались самыми мощными и опасными на всей Чаре. Кроме разбушевавшихся беспорядочных валов торские пороги встречают плотогонов для начала нагромождением острых скал, торчащих из воды метра на три прямо посреди реки. Далее река разгоняет плот до скорости километров под сорок в час, и, если вовремя не отбиться к левому берегу, можно со всего маху завалиться в метровый водопад, под которым торчит наготове скальный зуб. На выходе из торского каскада поджидает гряда подводных камней, перегородивших все русло в правильном шахматном порядке, и слева под берегом прячется в довершение всего сплошной подводный рог метра в четыре длиной.
Ну да не так страшен порог, как его обычно расписывает лоция, особенно когда он успешно преодолен. С разведкой и остановками мы прошли к вечеру весь торский каскад и уже на следующий день были где-то в относительной (плюс-минус сто километров) близости от Муруна. Горы стали пологими, не хребты — нагорья. Открылись дальние горизонты. И кругом на сотни километров ни дымка, ни избы, ни какого другого человеческого следа.
Зуд первооткрывательства захватил незаметно и нас.
Когда на одном из скальных прижимов Юлий Васильев вдруг заметил блестящее черное пятно, он тут же предложил причалить. Пятно в бинокль выглядело так, словно по скале мазнули черной смолой, какой обычно смолят лодки. Но в глухой стороне сомнительно было предполагать стремление смолить лодку, да и «мазнули» на высоте, до которой человеку при всем желании не дотянуться. По мнению Юлия, это было мумие. В свое время он небезуспешно занимался поисками этого лекарственного снадобья и убедился на собственном опыте, что целительные загадочные натеки всегда обнаруживаются в самых недоступных местах.
Итак, высоченная, почти отвесная скала торчала из водоворота, и всего-то в четырех метрах над водой блестело непонятное. Спуститься по скале невозможно — требуется основательное альпинистское снаряжение. Мы пробовали зацепиться плотом за скалу, чтобы попытаться снизу подползти к натеку, но мощное течение отбивало плот в сторону от прижима. После нескольких попыток пришлось отправиться дальше, так и не разгадав «блестящей» загадки. Васильев почти не сомневался в верности своего предположения и уже агитировал за зимнюю экспедицию на лыжах сюда — «за мумием».
«ДОВЕЛОСЬ ГРЯЗЕЙ ПОХЛЕБАТЬ»
Каково же было волнение, когда назавтра мы усиленно подгребались к скале с точно такими же натеками, но уже в доступном, тихом заливчике. Увы, «натеки» оказались не более чем редкой разновидностью лишайников. Но это недоразумение не означает, конечно, что мумие в якутских горах нет и быть не может. Наоборот, его находки в последние годы сделаны в хребтах Дальнего Востока и Забайкалья.
А когда неподалеку от устья притока Ималык вдоль берега возникли высокие белые скальные стены, словно изъеденные водой и ветром, плот причалил и к ним. Эти крутые скалы тянутся на несколько километров, образуя столбы, башни, крепостные валы с темными глазницами бойниц. Некоторые из нас кое-что понимали в спелеологии и в этих причудливых скалах безошибочно определили известняк — карстовую породу. Проще говоря, в таких вот известняковых массивах могут таиться не открытые никем пещеры, причем значительные.
Мы пролазили по скалам несколько часов, обнаружили около пяти, как сказал бы спелеолог, «перспективных шкуродеров», т. е. очень тесных ходов или щелей, ведущих вглубь. Всякий спелеолог знает, что подобными «дырками» часто начинаются великие пещеры. Но на этот раз все узкие тоннельчики были, к сожалению, наглухо забиты льдом. Потом, когда я спросил Рогова насчет обнажений известняка на Чаре, он вздохнул понимающе:
— Знаете, там столько интересного кругом… Но разве до пещер: нам было необходимо искать руду.
Теперь мне несложно представить их маршруты в то лето, когда был открыт чароит. Конечно, у них, как и у нас, обгорели лица на беспощадном чарском солнце. Они также проклинали комаров и великие мурунские болота.
Мурунский горный массив отрезан от реки Чары широким, почти в сотню километров, поясом болот или заболоченных марей, поросших кривыми лиственницами и дурманящим голову багульником. Мурунские горы торчат непосредственно из этих болот. Невысокий, в общем-то, Мурун прячется за лиственничными лесами чуть не до последнего часа, никаких других ориентиров нет, и вся надежда на компас, народные приметы да пресловутую интуицию, которая, по сути, есть накопленный по прежним скитаниям опыт.
Медленные ручьи текут здесь во все стороны света. В одном из таких ручьев видели однажды, как стоит неподвижно, лишь чуть шевеля плавниками, в тени лиственниц стайка хариусов.
От реки до горы Мурун мы брели трое суток.
В конце июня здесь белые ночи. Солнце не катится вниз с небосклона, а наискось спускается к горизонту. В двенадцатом часу ночи оно скрывается за деревьями й просвечивает сквозь лес в той стороне, где Мурун, так ярко, будто за дальними кривыми лиственницами горит пионерский костер или, чего доброго, гора из расплавленного золота. Отыскать в этих болотах клочок сухой земли для палатки — почти безнадежное дело. Но к полуночи мы все равно ставили палатку и вытягивались в ней на полиэтиленовой подстилке, давая телу отдых от рюкзака, а ногам — покой от скользких кочек, ледяной воды и чавкающей грязи.
Сначала мы побаивались затянутых изумрудной ряской участков без всяких признаков кочек и пытались их обходить. Но когда такая ряска окружила со всех сторон, пришлось поневоле убедиться, что под слоем торфа и грязи всюду надежная мерзлая земля и глубже, чем по колено, не провалишься. Однако радости это открытие не принесло.
В обед варили компоты из ревеня, который растет здесь повсюду. Кисловатый, он приятно освежал на жаре. В самые палящие полуденные часы мы спали, уткнув лица в рюкзаки.
Когда на исходе третьих суток пути от реки показался Мурун и, потные, грязные, облепленные слепнями, мы ступили промокшими и натруженными ногами на твердую землю у подножия сопки, каждому из четверых стало ясно, почему так долго не был открыт чароит.
Неделю спустя мы улетали с Муруна на нежданно подвернувшемся экспедиционном вертолете. Пилот из любопытства попросил показать, где мы пробирались к Муруну, и одобрил:
— Самый удобный вариант, — потом потянул штурвал на себя, и вертолет взмыл вверх, — по этим хлябям не то что ходить, летать над ними неохота. Верите, не по себе становится.
Рогов кивает согласно:
— Да, досталось и нам в то время грязей похлебать… Жара там летом всегда невыносимая. Вот в подобный душный летний день спустился я к одному ручью километрах в пятнадцати от Кедрового. В маршруты приходилось ходить одному. Программа напряженная, срочная, а людей не хватало. Это был как раз тот распадок, где в 1949 году работал Дитмар. Мы между собой этот ручей иначе, как Дитмаровским, и не называли. Я пошел в гору по ключу. Неподалеку от его истоков увидел поляну, на которой стоял барак, оставшийся от отряда Владимира Григорьевича. Потом осмотрел пробитые им шурфы. Тогда, конечно, работали в жутких условиях. У нас была разнообразная техника, они же били шурфы глубиной до десятка метров в вечной мерзлоте вручную. Я никогда не видел Дитмара, но, осмотрев их участок, тесный барак, познакомившись с его картами, прогнозами, всей его работой, убедился, что это был человек мужественный до фанатизма, геолог старой доброй закалки.
ДВА ГЕОЛОГА — ЧЕТЫРЕ МНЕНИЯ
Буквально в метрах ста от полусгнившего барака Дитмара я наткнулся на странную какую-то глыбу высотой с метр. Она лежала в кедровом стланике. Сиреневый такой цвет у камня — будто прикрыт белесым налетом, довольно невзрачный. Я попробовал отколоть кусочек, а он не откалывается. Плюнуть бы да дальше шагать, но необычная прочность валуна только подзадорила. Стал колотить по глыбе, пока не треснула рукоятка геологического молотка. Отбил-таки кусочек камня — и будто сиренью брызнуло. Вот, подумал, принесу жене: любопытная расцветка, женщинам яркое нравится. Потом лез по стланику, потел изрядно. Вот, собственно, вся история. Я даже месяц не запомнил, помню, что лето было и жаркий солнечный день.
Вера Парфентьевна — минералог классный. Она заинтересовалась желтыми, звездчатыми вкраплениями в сиреневом камне. Говорит: «По-моему, это новый минерал». А сам чароит сначала приняла за что-то уже известное. Не верилось, что такой заметный яркий сиреневый камень может быть неизвестен науке. Хотя, надо сказать, сама геологическая ситуация на Мурунском массиве очень оригинальна — здесь проходят краевой шов Сибирской платформы и западная оконечность так называемой Чарской глыбы. На геологическом языке это звучит буквально так: чароит обнаружен среди метасоматических пород в зоне контакта щелочных сиенитов Мурунского массива с кембрийскими кристаллическими известняками и кварцитами. В свое время в таких пограничных зонах могли образоваться самые необычные породы и минералы. Справедливости ради заметьте, что Дитмар в одном из своих отчетов упоминал о находке сиреневого камня. К сожалению, он не придал значения находке: отнес чароит к разновидности известных куммингтонитовых сланцев. В нашей науке так бывает. Говорят же: два геолога — четыре мнения…
Все-таки чароит открыли именно Юрий и Вера Роговы. Ведь в наше время открытие — это не только «пришел, увидел, объявил». Находка необычной глыбы на Дитмаровском ключе была, по сути, лишь ключом к открытию.
Заинтересовавшись желтыми звездочками в сиреневом камне, Вера попросила мужа достать еще образцов, чтобы подробнее исследовать минерал.
Рогов набил рюкзак взрывчаткой и в один из редких свободных дней отправился снова на Дитмаровский ручей. Была уже осень. Побродил по ручью, поднялся на перевал и обнаружил еще несколько сиреневых глыб. Тот первый валун, с которого все началось, он взорвал,’ набрал килограммов тридцать камня и побрел в Кедровый.
ПУТЕШЕСТВИЕ С САМОЦВЕТЧИКАМИ
Исследованием сиреневого камня они занимались урывками, в свободное время, которого было очень мало, на что ушли «годы. К тому времени они уже закончили все работы на Муруне, поселок Кедровый опустел. Но вечные искатели руд, Роговы уже не могли не думать о зачаровавшем их сиреневом камне. Однажды, скучая в пыльных и бесцветных даурских степях по бамовским горам, Рогов решил интереса ради отполировать кусок чароита. И… гладкая, блестящая поверхность вдруг наполнилась полупрозрачной загадочной глубиной..Узорчатые сплетения желтого, зеленого и черного заиграли среди сиреневых волн самоцветными оттенками, переливами.
— Потом чароитом заинтересовались геологи экспедиции «Байкалкварцсамоцветы», — продолжал свой рассказ Рогов, — они от чароита пришли в восторг: «Это же ювелирный камень! Где ты его откопал!? Сколько его там?» А я толком и не знал, много ли его на Муруне, этого камня. Взял отпуск, и отправились мы с геологами-самоцветчиками на Мурун.

Самый молодой собкор СССР на строительстве Байкало-Амурской магистрали.
Добирались они долго: летели до села Перевоз, ближайшего к Муруну, но за сотни километров от него. В Перевозе долго выбивали вертолет: правдами и неправдами. Авиаторы согласились забросить на маломестном вертолете только двух человек. Рогов полетел вдвоем с Юрием Алексеевым из «Байкалкварцсамоцветов». Их высадили на голом перевале над Дитмаровским ключом. Продукты у них были, а воды на перевале не оказалось, и снег еще не лег. Даже снежник, что раньше осенью на перевале лежал — из него Рогов и рассчитывал снабжаться водой, — впервые исчез: видно, лето было необыкновенно жаркое. Нет худа без добра: наутро увидели как раз на месте стаявшего снежника коренные выходы чароита. До этого ведь только отдельные валуны попадались. По перевалу проходит граница Иркутской области с Якутией. Спустились на якутскую сторону и тоже нашли выходы чароита. Это уже были не просто глыбы: стала реальной идея о промышленной добыче. Потом они таскали чароит на перевал. Трудились как каторжные. Около тонны вдвоем затащили, погрузили в большой вертолет — и весь камень ушел в Москву…
Так началось, можно сказать, триумфальное шествие чароита, изделий из него по международным выставкам и ювелирным аукционам. Для IX международного кинофестиваля в Москве один из главных призов был изготовлен из чароита. Вазы, броши, кулоны, перстни из переливчатого сиреневого камня неожиданно свежо и оригинально засверкали на фоне известных самоцветов. Зарубежные туристы спешили платить круглые суммы валютой за чароитовое очарование. На одном из аукционов ваза из чароита была оценена в 24 тысячи долларов.
КРАСОТА НЕБЕСНАЯ И ЗЕМНАЯ
…Первым, кого мы встретили на Дитмаровском ключе, был Николай Джимов, проходчик Чарской партии «Байкалкварцсамоцветов». Он сидел на корточках у костерка. На огне бурлил прокопченный чайник. Николай здесь почти с самого начала разведки чароитового месторождения: с 1976 года. Разведка продолжается и теперь — одновременно с добычей. Всего здесь работают каждое лето около сорока человек. На зиму все уезжают.
— Тут зимой делать нечего, — поднял Ажимов от костерика бронзовое лицо, — с перевала запросто ветром сметет и в снег зароет. Лучше в Иркутске зимовать.
Ажимов словоохотлив: как-никак свежие собеседники. Он ведет нас извивами канав и шурфов показать жилы чароита.
— Здесь, как видите, он ближе к синему. А здесь — как северное сияние. Эх, жалко, снежник до сих пор не стаял — под ним гребешок, как одна геологиня сказала, «умопомрачительный». Что бы вам еще показать? А что камень?! Красивый? Дак когда через тот вон перевал осенью птичьи стаи тянутся, еще красивей — стрелять не хочется. Мы ту седловину между сопками называем — «гусиные ворота».
Ажимов берет ломик и шагает в сторону «гусиных ворот» — шурф зачистить. Уже оконтурено несколько выходов сиреневого камня, кроме того, первого, что и нынче летом упрятан под нестаявшим снежником. Груды готового к вывозке чароита лежат и на самом перевале, и у новых изб, выстроенных самоцветчиками на той же поляне, где стоял барак В. Г. Дитмара. Отсюда чароит начинает свой путь в камнерезные мастерские и далее — по всему свету.
Главным геологом в партии — Юрий Алексеев, тот самый, что когда-то мерз с Роговым на перевале ледяной осенней ночью. Мне очень жаль, что мы разминулись с Алексеевым. Он улетел в командировку в тот день, когда мы подошли к Муруну. Говорят, Алексеев сейчас, как никто другой, знает о загадках уникального камня и вообще обо всем, что связано с чароитом. По мнению Алексеева, те выходы чароита, что пока обнаружены (а это многие сотни тонн самоцветного камня), — лишь спутники или дальние ответвления основного тела. Алексеев неустанно ищет научно обоснованный ключ к поиску главного месторождения. В истории сиреневого камня еще не написана самая яркая глава. Открытия продолжаются.
1984 г.