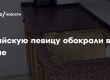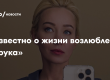Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького, режиссер Эдуард Бояков. Фото: Пресс-служба МХАТ имени М. Горького
У художественного руководителя МХАТ им. М. Горького, режиссера Эдуарда Боякова странные отношения со временем – он часто повторяет, что «времени нет». Но не в контексте своего расписания, а в сложном философском смысле: нет ни прошлого, ни будущего — все одновременно, везде и с нами. Особенно в театре. И спектакли Боякова связаны со временем. «Лавр», где герои перемещаются по русскому Средневековью XVI века и советскому XX веку. Антиутопия «Хлорофилия» про Москву XXII века, которую он планирует выпустить. И вот — продолжение «Трех сестер», путешествие из чеховского прошлого в будущую Советскую Россию, спектакль «Розовое платье».
Премьера «Розового платья» – 8 октября. Бояков решил сделать спектакль ночным (все равно «времени нет»). Но интрига здесь не в ночном показе. И не в том, что СМИ назвали постановку «сиквелом «Трех сестер». А в том, что «Розовое платье» выглядит покушением со стороны художественного руководителя МХАТ на святыню русского театра — на легендарный чеховский спектакль МХАТ.

Фото с репетиций спектакля «Розовое платье», режиссер Эдуард Бояков, в роли Наташи — Ирина Линдт. Фото: Пресс-служба МХАТ имени М. Горького
— Премьера «Розовое платье», сиквел «Трех сестер», — это оммаж или пика Чехову от театра, для которого он написал свои главные пьесы?
— Это наше признание в любви к старому, доброму, советскому театру. Постановка будет в декорациях Владимира Дмитриева к легендарному спектаклю Немировича-Данченко 1940 года «Три сестры», который недавно реконструировали наши режиссеры Валентин Клементьев и Михаил Кабанов. «Три сестры» МХАТ – самый известный спектакль советской эпохи. И декорации Дмитриева для меня — сакральный предмет: каждый раз, когда я прохожу мимо них, дух захватывает. Конечно, найдутся те, кто скажет, что мы издеваемся над Чеховым, ставим современную драматургию, используя декорации «Трех сестер»: «Как вы посмели, Эдуард?»
— А как вы посмели, Эдуард? Использовать святыню, декорации Дмитриева великого Художественного театра, для постановки спектакля современного драматурга?
— Точно так же, как Пушкин использовал Горация, а Бродский – Пушкина. Вы понимаете, очень многие люди даже не предполагают, что в Москве существует и живет реконструированный спектакль Немировича-Данченко 1940 года. Как не предполагают, что без этой постановки 80-летнего Немировича Чехов долгое время не существовал, был под запретом — чеховские прелести большевиков не волновали. Фактически у Чехова не было сегодняшнего статуса до 60-х годов: были только Толстой, Горький, Маяковский, Есенин, Достоевский. И сам культ Чехова пришел к нам с Запада. Это хорошо объясняет Бродский в своем «Послесловии» к платоновскому «Котловану». Русский человек, в отличии от западного, пережил две революции, страшную гражданскую войну, дикие репрессии, великую отечественную войну, и он уже живет в будущем, в XXI веке. Он уже живет в сюрреалистическом мире. Потому что имел опыт жизни в XXI веке, опыт страшнейших экспериментов. А западный человек в середине XX века продолжал жить в прошлом, в XIX веке: с этими отношениями, с этими бусиками, с этими эгретками, вуалями и деньгами. Западный человек так же лжив и слаб, как чеховские герои. Так же материален и так же запутан. Появление Чехова в СССР в 60-х закономерно и объяснимо возникновением общества потребления.
— Чехов вернулся в советский театр в оттепель, и его сразу стало много, и он сразу стал везде: в психологической версии, в постмодернисткой версии. Чем Чехов МХАТ отличается от Чехова других театров?
— Наш Чехов – это Чехов канона. Это Чехов без советской цензуры. Без той коросты, которую на него в эпоху оттепели стали насаждать. Без искусственной интонации советской интеллигенции, без придыханий героев. Это такой архитектурный, стилистический канон — классицизм, как Буало. Тот, которого знал Немирович-Данченко. И которого мы реконструировали.
— Что значит реконструировали?
— Это большая и сложная история. Мы первые актуализировали тему реконструкции в драматическом театре. Раньше реконструкция была известна только в балете: 20 лет назад я привез в Большой из Мариинки «Спящую красавицу» Вихарева. Вихарев первым объяснил, что такое старый балет, балет Мариуса Петипа, – что это не высоко задранные ноги и не короткие пачки, это не Григорович и не фуэте Семеняки и Захаровой. В драматургии, в театре, реконструкцией заниматься намного сложнее: по документам и архивам, по партитурам и записям помрежей восстанавливается каждый шаг и каждый вздох, свет, звук, рисунок. Это большая работа, подвиг, который в данном случае совершили наши режиссеры Клементьев и Кабанов.
***
— Сейчас мы решили пойти дальше и сделать продолжение спектакля Немировича-Данченко. В форме блестящей пьесы Наталии Мошиной «Розовое платье». То, как Мошина сохранила материал Чехова, не нарушила, не передумала, не придумала, не допуская никакого постмодернистского издевательства над сюжетом и персонажами, оставаясь абсолютно тактичной, выдержав настроение и чеховскую драматургическую ткань – просто восхищает.
— Правильно я понимаю, что пьеса – это история Наташи Прозоровой, рассказанная Наташей Прозоровой, которая пережила революцию, гражданскую, потеряла близких, трех сестер мужа, самого мужа и детей?
— Да, но это еще пьеса про Чехова, про чеховскую драматургию, про чеховских героев, про чеховскую любовь к Раневской, Аркадиной, Тригорину. К этим людям, красивым, тонким, умным, но неприкаянным, людям на грани, живущим накануне больших потрясений — революций и войн, которые изменят мир, и не будет больше кожаных перчаток такой тонкой выделки, белоснежных жабо, пенных кружев, завитушек и эгреток в волосах.
Историю рассказывает Наташа. У Чехова она чудовище: «шершавое» животное», — так говорит про нее муж, Андрей. А Мошина показывает нам другую Наташу. И мы видим невероятную трагическую и даже драматическую судьбу. Пьеса Мошиной и наша постановка — это не провокация, это просто другой взгляд.
Понимаете, в чем дело, Чехов был сам из таких Наташ: происхождение Чехова – это не происхождение трех сестер, генеральских дочек. Вот откуда у него и у Наташи идеализация другого мира, другого сословия. Наташа появляется в доме Прозоровых, уже влюбленная в этот флер. Она мечтает об идеальном мире. У Чехова эта любовь к идеальному была больной, трагической. Собственно, именно поэтому он шел к искусству. Здоровые люди, как вы понимаете, театром вообще не занимаются. Но вот эта его наташина почва, она его и сохраняла как художника. Не позволяла быть декаданским нытиком. И сделала выдающимся реалистом.
— Мошина и вы оправдываете Наташу — ее мещанство, ее вкус, ее нахрапистость?
— Не оправдываем. Мы показываем ее правду – ее взгляд на себя, на трех сестер, на время, на обстоятельства. Наташа – это женщина вне времени, она современна и сегодня. Она настоящая русская красавица. Такие были, есть и будут. В таких сильных, чистых женщин сегодня и влюбляются английские графья и русские олигархи. За ними ухаживают лучшие мужчины. Вы помните женихов Наташи: генеральский сын и будущий глава управы? Вы только представьте себе уровень этой женщины. И это сочетание силы, энергии, красоты – оно такое удивительное, что для нашей Наташи не нужен никакой постмодернизм на сцене, никакие 17-сантиметровые каблуки и татуировки. У нее все уже есть: она приходит, как хозяйка, приходит на равных, она знает себе цену. Она истинная русская женщина, у которой есть невероятная свобода. Она сильная. Она жертвенная. У нее высокая планка, высокие требования к партнерским отношениям, которые, кстати, ее муж Андрей Прозоров не выдержал — просто не потянул такую женщину.

Исполнительница роли Наташи актриса Ирина Линдт. Фото: Пресс-служба МХАТ имени М. Горького
***
— Правда ли, что на весь огромный зал МХАТ в 1400 мест, в продаже на «Розовое платье» будет всегда не больше 200 билетов?
— Мы это сделали, чтобы у зрителя было ощущение мистического путешествия — ночного, загадочного. Которое начинается до входа в Большой зал. Но как для любого трипа, в таком путешествии нужен проводник. У нас будут проводники, наши артисты, которые помогут, с одной стороны, войти в контекст «Трех сестер», а с другой стороны – раскачают зрителя и поместят в состояние некоего удивления. И Ирина Линдт в роли Наташи на Большой сцене тоже будет проводником — между прошлым и будущем, между 1902 годом и 1928 годом, между классическим чеховским театром и театром XXI века. И именно Линдт приведет зрителя к новым вопросам о Чехове. Казалось бы, что нового тут можно сказать? Тем не менее, глобальные, жесткие вопросы так и не поставлены. Почему ни в одной из чеховских пьес нет ни одной иконы? Ни одного упоминания о церкви? Почему ни в одной его пьесе нет детей, а если есть, то это какие-то приживалы с изломами? Почему мы должны забыть Фирса, но никак не получается? Вы посмотрите, в тех же «Трех сестрах» нет ни одного счастливого брака, ни одного ребенка. У Кафки эти женщины давно бы превратились в пауков, у Ионеско – в коров. А у Чехова стоит сестра, жениха которой только что убили, и вместо слов утешения слышит от родных людей: «Будем жить!» Вот для того, чтобы разобраться со всем этим Чеховым, нам нужна Наташа.

Фото из спектакля Немировича-Данченко 40 гг «Три сестры», реконструкция режиссеров Валентина Клементьева и Михаила Кабанова. Фото: Пресс-служба МХАТ имени М. Горького
— Вы делаете спектакль ночным, с 22.00 до 23.30. Почему?
— Потому что это время таинственности. Потому что до этого на Большой сцене МХАТ идет спектакль Немировича-Данченко «Три сестры». Мы в театре делали два раза ночные экспериментальные экскурсии с перфомансами «МХАТовская пауза» – я видел, как зрители реагировали, что переживали. В случае с нашей премьерой будет что-то подобное: войти в темный зал, где только что закончился спектакль «Три сестры». Посмотреть на декорации Дмитриева в деконструкции — есть такое слово в искусствоведении, увидеть декорации с изнанки, с необычной стороны. Работа с декорациями ведь — тоже магия, по силе демонтаж – невероятное действие. Все вместе это создаст сильное эмоциональное переживание у зрителя.
— Как вы думаете, почему о вашей постановке стали говорить еще в прошлом театральном сезоне – потому что это необычная пьеса, потому что это ночной спектакль или потому что ставит его Бояков?
— Потому что это МХАТ. Мы набрали критическую массу – реконструкции «Синей птицы», «Трех сестер», спектакли «Лес», «Лавр», «Чудесный грузин» — теперь каждое наше высказывание претендует на то, чтобы быть концептуальным, громким, амбициозным и содержательным. Нам амбиций не занимать. И мы, уверяю вас, не собираемся от этого освобождаться.
***
— Откуда такой взгляд на время, «которого нет»?
— Это формула главного героя «Лавра», которую вывел Евгений Водолазкин и которую Евгений Водолазкин — историк, между прочим, то есть человек, который все понимает про время – часто вспоминал в разговоре со мной, даже в рассуждениях, не имеющих отношения к роману. Мы все в театре потом зацепились за нее и стали часто ее повторять. Это формула духовного пространства, в котором, безусловно, и живет театр – у театра вообще особым образом устроена материя: она должна быть открыта и в прошлое, и в будущее. В нашей премьере «Розовое платье» мы тоже путешествуем во времени — из 1902 года в 1928 год. Нечто подобное у нас происходит и с другими постановками. Например, мы сейчас репетируем «Обручение» Метерлинка — продолжение великого спектакля Станиславского 1907 года «Синяя птица». Главный герой Тильтиль становится 17-летним юношей. И проходит тот же маршрут, что прошел в детстве: кладбище, родительский дом, город. Вокруг него – огромное количество девушек, они сопровождают его в этом мистическом трипе. Спектакль пытается ответить на вопросы: каковы должны быть отношения между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, между невестой и женихом? Как найти суженую? Удивительное, но невероятно современное расследование мужской судьбы. И эта постановка тоже показывает, как естественно и закономерно для МХАТ движение во времени, развитие истории, связывание с корнями наших пьес.
— Я слышала, как Андрей Рубанов недавно сказал про вас: «Не представляю, как поставить фантастику на сцене, не представляю, как будет выглядеть в театре «Хлорофилия». Но я доверяю Боякову, он человек передовой». Вы считаете себя передовым, чтобы вот так вот «распоряжаться» временем, «которого нет»?
— В данном случае «передовой» не является никоем образом комплиментом. Но и не является опасностью для зрителя, который воспринимает слово «передовой» синонимом «авангардный». Со своих первых лет в театре я занимался смешением жанров, языков, стилей, всегда работал с современной драматургией. Но только с той, что апеллирует к базовым формам, которая имеет традиционные истоки.
— Что вы имеете в виду, говоря о смешении? Условный постмодернизм условного Чехова – латексные платья на «Трех сестрах»?
— Совсем наоборот. Например, один из моих первых спектаклей в Мариинском – «Царь Демьян». Глубоко народный текст, на который внучка Поленова написала либретто. И на который пять лучших современных композиторов сочинили оперу. «Царь Демьян» — пример гипертрадиционалисткой драматургии, ничего более традиционного, чем народная драма, придумать невозможно. Или — «Сказание о невидимом граде Китеже» Римского-Корсакова, который мы сделали с Дмитрием Черняковым, самая сакральная опера, русский «Парсифаль», об отшельнице, которая являет собой беспредельный образ идеальной невесты, погибающей как мученица. Мы рассказывали эту глубоко народную историю, используя при этом современную сценографию.
— То есть вы берете что-то от народа, от истока, от сохи и оборачиваете в нечто понятное современникам – костюмы, сценография, музыка, так?
— Я занимаюсь ровно этим, но. Но должен оговориться, что настоящий театр никогда другим и не занимался. Начиная с Софокла и Эсхила. И я ищу, конечно, такой театр. В котором нет бесконечного пережевывания сказанных сотни раз вещей, образов, мыслей, формул и рифм, где нет ни следования, ни повторения, ни интерпретации с подобострастием к великому Чехову или Достоевскому. Понимаете, мы самостоятельные, свободные люди, мы должны всегда конкурировать с Чеховым и Достоевским. Конечно, никакой гарантии того, что у нас получится, нет, но амбиция должна быть, это свойство настоящего театра и настоящего искусства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эдуард Бояков: Мы разобрали Сталина на части, как часовой швейцарский механизм
Художественный руководитель МХАТа имени Горького объяснил роль Ольги Бузовой в пьесе «Чудесный грузин» (подробно)